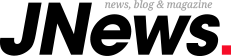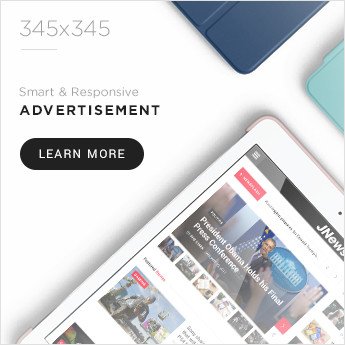На юбилее золотой свадьбы муж сказал: «Я любил не тебя все эти 50 лет». Гости замерли, услышав ответ…
Зал был украшен золотыми шарами, свечами и фотографиями, где они — молодые, смеются, держатся за руки, стоят у роддома с первым сыном, рядом с новым диваном, возле внуков. 50 лет вместе. Люди хлопали, кто-то втирал слёзы: столько прожить — это ведь подвиг.
Слово дали юбиляру — Ивану Сергеевичу, сухому, прямому мужчине. Он встал, оглядел зал, затем — жену. Та сидела, приосанившись, с привычной полуулыбкой. Платье у неё было нежно-голубое, волосы — аккуратно уложены, пальцы теребили кольцо, которое он ей подарил ещё в армию.
И вот он сказал:
— Я должен признаться. Я любил не тебя все эти 50 лет.
В зале повисла тишина. Кто-то чуть не уронил бокал. Внуки перестали смеяться. Женщина напротив побледнела, но смотрела прямо.
Он сделал паузу, сглотнул.
— Я любил не тебя. Я любил то, во что ты превратилась.
Все эти 50 лет я влюблялся заново в женщину, которая росла рядом со мной. В ту, что вставала в пять утра готовить нам еду в поезд. В ту, что плакала от счастья, когда родился Витька. В ту, что молча держала мою руку, когда я хоронил отца. В ту, что старела, не боясь, и учила меня прощать.
— Я любил не ту двадцатилетнюю девушку в алом платье. Я любил женщину, которая стала моей жизнью.
И знаешь, Маруся… Я бы всё повторил. Даже твой борщ, который первые 10 лет был ужасен. Даже ту ссору, из-за которой ты ушла к сестре. Даже ту твою рубашку, которую я испортил в машинке. Потому что всё это — ты. А ты — моё всё.
Она не плакала. Только подошла, положила руки ему на лицо и сказала:
— А я всё 50 лет любила тебя. Разного. Сначала глупого, упрямого. Потом уставшего, потерянного. Потом — доброго, мягкого, и вот сейчас — самого настоящего. И знаешь, Ваня… ещё люблю. Ещё как.
В зале уже все плакали. Даже официанты стояли, отвернувшись.
А потом Маруся поцеловала его в лоб.
И они танцевали. Старенькие. Немного неловко. Зато — по-настоящему.
После танца их усадили на почётные места. За столом сновали внуки, внучка — точная копия Маруси в молодости — принесла дедушке кусочек торта, уже наполовину растаявший. Он подмигнул ей:
— Ты же знаешь, что я не ем сладкое?
— Знаю. Но бабушка велела — значит, ем, — рассмеялась она.
Праздник продолжался, но в комнате будто всё немного изменилось. Люди стали смотреть друг на друга иначе. Кто-то вдруг взял за руку свою жену. Кто-то пересел поближе к отцу. Кто-то задумался. О чём — знал только он сам.
А Маруся тихо смотрела на Ивана. Вспоминала, как он в молодости писал ей стихи на обрывках газет, как уезжал в командировки и привозил странные подарки: деревянную уточку, фарфоровую ложку, венгерские духи. Вспоминала, как в 92-м заболел так, что врачи разводили руками, а она молилась и гладила его ладонь, даже когда думала, что он её не слышит. А он потом сказал: «Слышал. Твои пальцы кричали громче всех».
— Знаешь, Маруся, — вдруг сказал он, наклонившись ближе. — Если бы нам дали ещё одну жизнь…
— Я бы выбрала тебя снова, — перебила она.
Он усмехнулся.
— Даже с моей лысиной?
— Даже с твоими носками по всему дому.
Они засмеялись. И вдруг стало страшно тихо. Потому что счастье — оно всегда в тишине. Оно не любит крика, оно не требует внимания. Оно просто есть, сидит рядом и греет руку.
И когда через пару дней они проснулись дома, в своей квартире с облупившимися стенами, с часами, что давно отстают, с фотографиями в рамочках, Иван сказал:
— Как хорошо, что ты у меня есть.
А Маруся ответила:
— Да просто будь. Пока я есть — будь.
И он был.